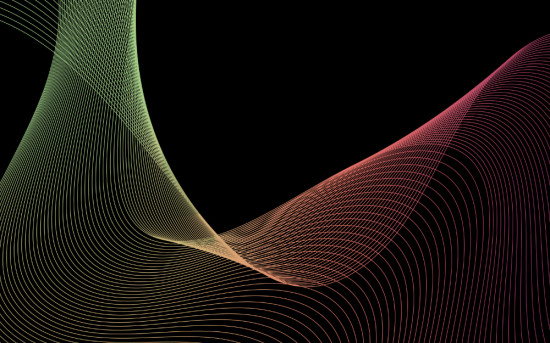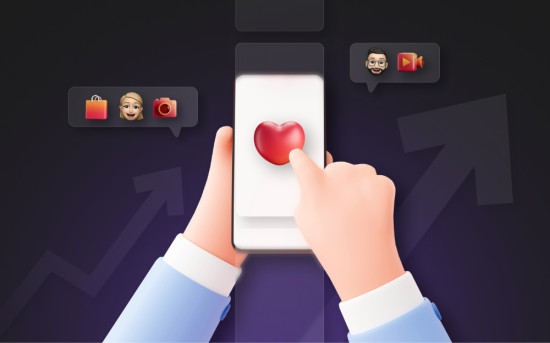Как разрабатываются российские дженерики: от лаборатории до аптеки
Мы обсудили, как проводятся исследования лекарственных препаратов и их роль в развитии фармацевтического бизнеса в нашей стране

Доктор фармацевтических наук, главный редактор научно-производственного журнала «Разработка и регистрация лекарственных средств», эксперт Российского научного фонда
В последние годы российский фармацевтический рынок претерпел изменения: ушли западные компании, возросла активность отечественных производителей и активно развивается общий рынок ЕАЭС. Изменения коснулись и структуры клинических исследований: уменьшается число зарубежных компаний и растет количество исследований, организованных российскими спонсорами. В первой половине 2024 года российские спонсоры чаще всего исследовали дженерики (30,4% от всех утвержденных протоколов). Например, препараты на основе семаглутида до недавнего времени были представлены на рынке только европейскими брендами, но в 2023 году их официальные поставки в Россию прекратились, что привело к появлению нелегальных схем ввоза. Граждане вынуждены были приобретать препарат через неофициальные сайты по завышенным ценам без гарантии качества и эффективности. В рамках обеспечения технологического суверенитета России отечественные компании начали разработку импортозамещающих препаратов на основе семаглутида. Однако у потребителей возникают сомнения в безопасности этих аналогов. Вместе с нашими экспертами мы разберемся, как новые препараты попадают на полки аптек на примере препарата «Семавик», являющегося дженериком ушедшего с рынка европейского бренда.
В нашем интервью Драй Роман, директор департамента исследований и разработок компании «ГЕРОФАРМ», и Шохин Игорь, генеральный директор ООО «Центр Фармацевтической Аналитики», обсудили актуальные вопросы, связанные с исследованиями лекарственных препаратов в России. В роли интервьюера выступила Кульджанова Наталья, директор научно-производственного журнала «Разработка и регистрация лекарственных средств».
«Семавик» и другие препараты на основе семаглутида — рецептурное средство, которое можно применять только по назначению врача. Наш материал носит ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению. Перед употреблением любых препаратов проконсультируйтесь с врачом-специалистом.
Роман, первый вопрос я задам Вам. Расскажите, пожалуйста, как выглядит жизненный цикл лекарственного препарата, который выходит на российский рынок, на примере семаглутида.
Роман Драй: Добрый день! Благодарю Вас за приглашение и за интересные вопросы. Прежде всего, хотелось бы отметить, что жизненный цикл, разработка и регистрация всех лекарственных препаратов проходят практически одинаково, независимо от страны происхождения. Это связано с национальными законами, в частности, с ICH, которые действуют во всех странах мира — в США, Европе, России, Японии, Канаде и на Кубе. Мы также адаптировались к этим требованиям, и с 2016 года полностью соответствуем не только российскому законодательству и законодательству ЕАЭС, но и мировому.
Теперь поговорим о жизненном цикле ЛС. В 2023 году компания «ГЕРОФАРМ» вывела на рынок препарат «Семавик» — дженерик ушедшего с рынка европейского бренда. Жизненный цикл дженериков значительно проще, чем у оригинальных препаратов, поэтому нам удалось создать препарат в сжатые сроки. Сначала мы должны были понять, зачем мы выводим этот препарат на рынок. Обычно это происходит, когда заканчиваются патенты на оригинальные препараты. Однако в данном случае они все еще действовали, но пациенты тем не менее оказались лишены выбора. Датская компания сообщила о прекращении поставок семаглутида и мы решили заместить этот препарат. Это был хороший пример того, как быстро можно отреагировать на необходимость импортозамещения.
Далее мы изучили препарат европейского бренда. Мы знаем, что семаглутид, действующее вещество данного препарата, состоит из 31 аминокислоты. Наша задача была сделать наш препарат таким же, как и оригинальный. Мы не можем сделать его лучше или хуже, мы должны создать точную копию. После чего мы закупили несколько серий препарата европейского бренда. Это был препарат, приобретенный как на российском, так и европейском рынке. Мы провели сравнительные исследования, изучили концентрацию, молекулярную структуру и примеси. Затем установили целевой профиль качества для нашего препарата. Наши химики синтезировали абсолютно такой же препарат, и после этого мы создали готовую лекарственную форму. Далее мы провели исследование сопоставимости, закупив еще несколько серий препарата европейского бренда, и сравнили наш препарат с оригинальным. Это был второй этап.
Третий этап — проведение клинических исследований. Мы написали протокол клинического исследования, получили одобрение в Министерстве здравоохранения и стали исследовать фармакокинетические свойства нашего препарата (то есть его поступление в кровь) и они оказались абсолютно такими же, как у препарата европейского бренда. Мы проводили сравнительные испытания на здоровых добровольцах. После этого все необходимые документы были направлены в Министерство здравоохранения. После одобрения Минздравом препарат получил регистрационное удостоверение и поступил в продажу.
Наталья Кульджанова: Роман, Вы упомянули о клинических исследованиях. Не могли бы Вы рассказать более подробно о том, как проходит этот процесс?
Роман Драй: В данном случае мы проводили клиническое исследование биоэквивалентности. В нем приняли участие две группы здоровых добровольцев: одна группа получала инъекцию препарата европейского бренда, а другая — российский аналог препарата. В течение недели у участников брали кровь в разное время: сначала — каждый час, затем — каждые 15 минут, а в итоге — раз в сутки. Обычно кровь берут в течение суток или максимум двух, но так как препарат действует в течение недели, мы решили проводить забор крови также в течение этого периода. Кровь центрифугировали, получали сыворотку, замораживали ее и отправляли в независимую лабораторию для измерения в ней концентрации препарата в крови. Лаборатория работала вслепую: ее сотрудники не знали, какой именно препарат отправляют. Затем результаты исследования передавались биостатистикам, которые сравнивали концентрацию нашего препарата и оригинального. Оказалось, что концентрации совпали, что свидетельствует о биоэквивалентности.
Наталья Кульджанова: Большое спасибо, Роман. У меня сразу же возник вопрос к Игорю Шохину, генеральному директору ООО «Центр Фармацевтической Аналитики», которая занималась исследованиями этого лекарственного препарата. Расскажите, пожалуйста, как проходили исследования семаглутида в Вашем центре?
Игорь Шохин: Благодарю за вопрос. Перед нашим лабораторным комплексом стоит непростая задача: нам присылают мешок с несколькими тысячами пробирок, в каждой из которых содержится плазма крови, заслепленная особым образом. Наша цель — определить концентрацию семаглутида в каждой пробирке. Важно отметить, что эти концентрации очень малы. Всем, вероятно, хорошо знаком термин «нанотехнология». Приставка «нано» обозначает 10⁻⁹. В процессе биоаналитических исследований, в частности при изучении семаглутида, мы имеем дело именно с такими нанограммовыми концентрациями. Максимальные концентрации, с которыми мы сталкиваемся в наших пробах, составляют сотни нанограмм на миллилитр, а минимальные — примерно в сто раз меньше. Таким образом, достоверно измерить эти значения и получить достоверные данные — непростая задача. Семаглутид представляет собой довольно сложный препарат с химической точки зрения.
Как пояснил Роман, это пептидный препарат, состоящий из 31 аминокислоты. Для химиков он представляет собой нечто среднее между обычной малой молекулой и биологическим веществом. Как известно, аминокислоты входят в состав белков, из которых построен организм. Поэтому подходы к анализу таких пептидных препаратов могут быть весьма разнообразными.
Один из них — так называемые методы связывания лиганда, например, иммуноферментный анализ. Это наиболее распространенный метод изучения макромолекул, обладающий рядом преимуществ, таких как высокая чувствительность. Однако есть и сложность: тест-системы для иммуноферментного анализа пептидных препаратов в России не производятся, поэтому их необходимо импортировать. Кроме того, их нужно полностью валидировать, чтобы гарантировать достоверность получаемых данных.
Другой подход — использование высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием (ВЭЖХ-МС). Приборы ВЭЖХ-МС представляют собой сложные дорогостоящие комплексы, для работы с которыми требуются высококвалифицированные операторы, способные разрабатывать и валидировать методики на этих приборах. Однако этот метод с применением масс-спектрометрии позволяет с высокой точностью и минимальными погрешностями определить нанограммовые концентрации препаратов. Важно отметить, что помимо исследования концентрации самого семаглутида, в ряде образцов мы также измеряли его иммуногенность — уровень антител к семаглутиду.
Как известно, наш организм настороженно относится к чужеродным веществам, особенно если они имеют большую молекулярную массу, например, белковой или пептидной природы. В ответ на это организм начинает вырабатывать антитела, которые могут связывать и выводить чужеродные молекулы, а также вызывать собственные реакции, такие как аллергические.
В рамках данного исследования было важно продемонстрировать, что реакции иммуногенности у оригинального препарата и разрабатываемого российского препарата сопоставимы. Только после этого результаты этих исследований могут быть включены в состав регистрационного досье. Затем материалы исследований становятся частью отчета о клиническом исследовании и регистрационного досье, которые передаются в Минздрав.
Наталья Кульджанова: Правильно ли я понимаю, что благодаря проведенным сложным исследованиям было доказано, что российский аналог препарата обладает такой же безопасностью и эффективностью, как и препараты европейского бренда?
Игорь Шохин: Я могу сказать, что в рамках исследований биоэквивалентности, которыми мы занимаемся, сопоставимость препаратов оценивается по их фармакокинетическим параметрам, то есть по тому, сколько препарата поступило в кровь. На основе этих данных мы делаем вывод о сопоставимой эффективности препаратов.
Роман Драй: Иными словами, если два одинаковых химических вещества попадают к месту своего действия одинаково, то и действовать они будут одинаково. Например, если мы хотим вывести оригинальный препарат, то сначала должны провести три фазы исследований, в которых изучаем его эффективность и безопасность. В случае с российским препаратом этого не требовалось, так как такие исследования уже провела датская компания. Наша задача — доказать, что структура препаратов одинакова.
Мы разобрали препараты по каждой аминокислоте, полностью их изучили и доказали, что они идентичны.
Нам важно было убедиться, что оба препарата одинаково попадают в кровь. Когда делают инъекцию, под кожей образуется «депо». В течение недели препарат постепенно всасывается в кровь. Наша с Игорем задача заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что этот процесс происходит одинаково. Мы проводили клинические исследования, а лаборатория измеряла концентрацию препарата в крови. Мы не стремились доказать эффективность или безопасность препарата. Эти вопросы уже были решены 10 лет назад. Наша цель заключалась в том, чтобы подтвердить, что новый препарат идентичен оригинальному. Мы успешно справились с ней, и теперь все инструкции по медицинскому применению нового препарата полностью соответствуют инструкциям для оригинального препарата. Мы не вносили никаких изменений в оригинальный текст инструкции по применению.
Наталья Кульджанова: Хорошо, спасибо, Роман. Что происходит после того, как мы провели клинические испытания лекарственного препарата?
Роман Драй: После этого препарат поступает в аптеки, его закупают государственные учреждения, и пациенты начинают его применять. В этот момент в дело вступает фармаконадзор. По закону, у нас есть определенный алгоритм, согласно которому мы обязаны проводить фармаконадзор наших препаратов. Это процесс, в рамках которого мы принимаем любые жалобы от пациентов и врачей из разных источников. Например, если пациент сделал инъекцию и почувствовал тошноту после применения «Семавика», но не прочитал, что эта нежелательная реакция уже описана в инструкции по медицинскому применению, он может пожаловаться.
У пациента есть возможность зайти на наш сайт, распечатать анкету или заполнить ее онлайн. Также можно позвонить на горячую линию, номер которой указан на любой упаковке, или заполнить форму в Росздравнадзоре. Полученные жалобы изучаются специалистами фармаконадзора. Они проверяют, есть ли информация об этой реакции в инструкции по медицинскому применению. Если она там есть, мы благодарим пациента и подтверждаем, что уже знаем об этой реакции.
В течение определенного периода мы должны будем составить периодический отчет о безопасности лекарственного средства. В нем мы смотрим, совпадает ли количество нежелательных реакций с тем, что указано в инструкции. Если какой-то реакции не было в инструкции, мы об этом информируем и начинаем исследовать причину, связываться с пациентами. Поэтому фармаконадзор является важной частью жизненного цикла любого лекарственного препарата, включая российский аналог препарата.
Как и все лекарственные препараты «Семавик» имеет свои риски и противопоказания, а именно: гиперчувствительность к семаглутиду или любому из вспомогательных веществ; медуллярный рак щитовидной железы в анамнезе, в том числе в семейном; множественная эндокринная неоплазия (МЭН) 2 типа; сахарный диабет 1 типа (СД1); диабетический кетоацидоз. Противопоказано применение препарата Семавик у следующих групп пациентов и при следующих состояниях/заболеваниях в связи отсутствием данных по эффективности и безопасности или ограниченным опытом применения: беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет; печеночная недостаточность тяжелой степени; терминальная стадия почечной недостаточности (клиренс креатинина (КК) < 15 мл/мин); хроническая сердечная недостаточность (ХСН) IV функционального класса (в соответствии с классификацией NYНА (Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация).
Интересное:
Все новости:
Публикация компании
Достижения
Профиль
Социальные сети